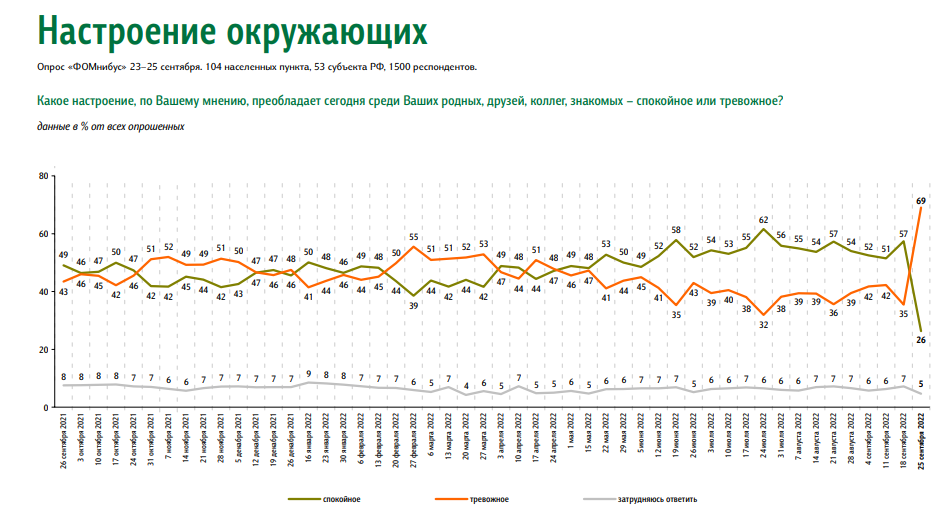В эксклюзивном интервью для «Бизнес ФМ» генеральный директор Аналитического центра ВЦИОМ Валерий Федоров поделился результатами свежих исследований. В беседе с главным редактором «Бизнес ФМ» Ильёй Копелевичем он рассказал о причинах, по которым почти треть россиян допускают возможность чипирования, о том, как идеи ЗОЖ проникают в массовое сознание, а также о готовности общества к тотальной цифровизации и искусственному интеллекту. Также были затронуты вопросы схожести и различий в ценностях российского и американского обществ.

Опасения чипизации: реальность или отголосок пандемии?
В студии «Бизнес ФМ» генеральный директор Аналитического центра ВЦИОМ Валерий Федоров. Недавно ВЦИОМ опубликовал данные, согласно которым до 30% опрошенных считают, что они кем-то чипированы.
Валерий Федоров: Уточню, респонденты не считают себя уже чипированными, но допускают такую возможность как вполне реальную и даже угрожающую. Много ли это? Безусловно, значительное число.
Вы сами относитесь к этим 29%?
Валерий Федоров: Пока нет. Но будущее неопределённо, и ситуация может измениться. Мы знаем о проекте Neuralink Илона Маска и других разработках. Хотя эти технологии позиционируются как благо для человечества, например, для лечения слепоты, исторический опыт показывает, что новые технологии часто в первую очередь используются в военных целях, как было с атомной энергией. Технологический прогресс не всегда является безусловным благом. Если подобные изобретения получат распространение, их будут активно применять для контроля над человеком, а не только для решения его проблем.
О чём говорит тот факт, что почти 30% опрошенных воспринимают это как реальность, особенно в сравнении с более ранними данными или данными из других стран?
Валерий Федоров: Информации по другим странам у меня нет; не каждая социологическая служба решается задавать такие вопросы. Мы, например, не боимся спрашивать ни о мировом правительстве, ни о чипизации. Ваш вопрос о контексте очень важен. Чтобы понять, много ли 29%, нужно знать, сколько было раньше. В данном случае у нас такая возможность есть. Идея спросить о чипизации возникла не случайно, а как реакция на широкомасштабную кампанию по раздуванию страхов, которая достигла пика в 2021 году.
Во время пандемии, мы все помним.
Валерий Федоров: Именно. Во время пандемии, когда искали разные пути излечения, многие были шокированы некоторыми предложениями, например, вакцинацией. Помните, какие горячие споры шли? Многие известные и авторитетные личности выступали против вакцинации, и тогда же бурно расцвели всевозможные страхи.
Что через этот шприц введут не вакцину.
Валерий Федоров: Тогда и возникла тема чипизации. Мы зафиксировали, что более 40% россиян допускали такую возможность. Этот страх был очень сильно раскручен.
То есть это скорее последствия, нежели новая волна осознания технологических возможностей?
Валерий Федоров: Есть понятие «остатки», введённое классиком социологии XIX века, звучавшее как «резидуи». Это означает, что мы получаем огромный объём информации, верований, которые проходят через нас. Большая часть не задерживается, но что-то остаётся, становясь элементами нашего когнитивного каркаса. И, как мы видим, идея чипизации задержалась у значительной части общества. Это не тотальный, но весьма влиятельный страх – почти треть населения продолжает его опасаться.
Научное сознание или суеверия: куда движется общество?
В целом, наше общество в большей степени движется в сторону принятия научного сознания или верований, страхов, суеверий, карт Таро, астрологии, чипизации и так далее?
Валерий Федоров: Идёт серьёзная борьба, которая началась не вчера. Я бы датировал первый такой вал второй половиной 70-х годов прошлого века. То есть мы уже полвека находимся в этой борьбе. Кстати, началось это не в России или СССР, а десятилетием раньше, в 1960-е годы на Западе, с идеями нью-эйджа, поисками альтернативных истин и верований.
Кажется, раньше таких настроений было ещё больше.
Валерий Федоров: Массовый характер это приобрело именно в 1960-е годы, когда хиппи устремились на Восток, и распространились идеи современного буддизма. Многие деятели, например, Ричард Гир, стали буддистами, а Далай-лама из местного тибетско-китайского святого превратился в фигуру общемирового значения. Эта тяга к альтернативным объяснениям стала очень масштабной. До нас это докатилось во второй половине 1970-х годов, что было связано, в том числе, с нашими собственными причинами: разочарованием в коммунистической идеологии образовался вакуум, который заполнили разнообразные идеи, включая астрологию. Про карты Таро тогда ещё не говорили, но знаки зодиака уже вошли в народ. С тех пор приливы антинаучных и нетрадиционных религиозных верований регулярно на нас накатывают. В 1990-е годы был очередной всплеск.
Там даже по телевизору заряжали воду и массово лечили.
Валерий Федоров: Это 1980-е, а в 1990-е был снова всплеск. История давняя. Наука с трудом удерживает свои позиции, во многом их сдаёт. В этом есть и вина самой науки, потому что она, с одной стороны, очень сильно технологизировалась – от решения насущных вопросов мироздания перешла к работе на общество потребления, встроилась в рекламно-маркетингово-промышленный комплекс, стала служить не истине, а мамоне. А с другой стороны, сформировалась поп-наука, когда говорящие головы заполонили эфир от имени науки.
Они заполонили социальные сети.
Валерий Федоров: Да, и от имени науки несут всякую чушь. Ну и имеет место быть глубокий кризис науки.
В сторону чего сейчас движется общество? Чтобы освободиться и всё-таки опираться на то, чему в школе учили, в университете, или на предсказания, приметы, страхи?
Валерий Федоров: Я пока не вижу сильного движения в сторону науки.
Схожесть ценностей россиян и американцев
Другая публикация Аналитического центра ВЦИОМ, которая мне попалась на этой неделе, рассказала о том, что по оценке базовых ценностей россияне и американцы во многом очень похожи. В чём мы похожи, в чём не совсем?
Валерий Федоров: Я бы выделил три момента. Общих установок больше, чем различий. Это значит, что не всё потеряно на Западе, он не окончательно сдался «воукистской» идеологии, всё-таки есть традиционные ценности, о которых мы часто сожалеем. И победа Трампа, который вновь высоко поднял знамя традиционных ценностей в американском варианте, – очень важный фактор, не надо его недооценивать. Есть и различия, и они связаны с сексуальными вопросами. Если на Западе сексуальная революция дошла до полного уравнивания разных видов секса – традиционного и нетрадиционного, эти понятия смешались и пошли дальше, то мы попробовали немного в 1990-е, в начале нулевых, потом поняли, что нам туда не надо, и пошли в другую сторону. Сегодня это является конфликтной зоной. Мы, Китай, Индия, другие цивилизации Глобального Юга и Востока всё-таки настроены более осторожно, более консервативно. Америка сейчас является полем боя, а Европа продолжает упорствовать в своём левопрогрессистском подходе за абсолютное уравнивание всего и вся, за уничтожение любых иерархий, разделений и так далее.
Отношение к разным видам секса – это, скорее, фланговая вещь, которой люди увлекаются в той или иной степени. Но есть базовые вещи, такие как семья, развод, дети, количество детей – то, чем живёт подавляющее большинство. Как по отношению к этим формам нашей жизни соотносятся ценности россиян и американцев?
Валерий Федоров: Я бы сказал, что здесь больше общего, чем отличного.
Аборты тоже постоянно острая тема.
Валерий Федоров: Тема абортов очень политизирована сейчас в Америке, у нас – в гораздо меньшей степени. Там это одна из линий разделения между республиканцами и демократами. У нас такой острой полемики не идёт. Всё-таки у нас есть доминирующее мнение, есть доминирующая практика. Я могу её сформулировать так: аборты – это плохо, и лучше бы, чтобы их не было, но ситуации, когда они необходимы, существуют, и каждый человек имеет право сам решать, делать это или нет. Вот это общее.
И это доминирующее общественное мнение.
Валерий Федоров: Абсолютно, да. Все попытки их запретить, забрать у человека право решать насчёт этого пока проваливаются. Что будет дальше, я не знаю, у меня нет хрустального шара.
Да, в Америке это тема острейшего политического конфликта, и здесь уже мнения людей опираются не на их собственный философский подход, а на принадлежность к той или иной политической партии.
Валерий Федоров: Да, на приверженность к одной из этих двух больших идеологий: демократической или республиканской. Первый вывод был, что у нас всё-таки общего больше. Но есть и второй вывод: Россию часто упрекают в том, что мы опять завернули не туда, что мы тормозим, отстаём. Нет, у нас по большинству вопросов, опять-таки, за исключением тех самых сексуальных аспектов, которые у нас уже политизированы, в отличие от Америки, вполне современное общество.
Как наше общество сейчас относится к разводам?
Валерий Федоров: Нормально относится к разводам.
А американское?
Валерий Федоров: Американское тоже нормально. Здесь общая позиция состоит в следующем: конечно, лучше без разводов, но если любовь ушла, то честнее и правильнее будет развестись, чтобы создать новый брак с тем человеком, которого ты любишь и который любит тебя.
Здоровый образ жизни и административные меры
В нашей политической практике на региональном уровне активно развивается тема ограничений: будь то продажи алкоголя, вейпов, про сигареты пока речь не идёт. Что говорит общественное мнение об этом?
Валерий Федоров: Абстрактной позиции «запрещать или не запрещать» нет и быть не может. Всё очень контекстуально и ситуативно. Если речь идёт об угрозе подрастающему поколению, о котором мы очень заботимся и считаем его малоопытным и подверженным всяческим рискам, мы, конечно, выступаем за запреты. Например, за запреты на наркотики – кто выступит против?
У нас они никогда не поощрялись и не разрешались, как, опять же, в определённых, даже во многих американских штатах.
Валерий Федоров: Дело тут не только в Штатах, а в общемировом тренде. Общемировой тренд состоит в разрешении лёгких наркотиков. Это уже давно вышло за пределы Штатов.
Но это на Западе, потому что в Азии, наоборот, очень строго это всё карается, строже, чем у нас.
Валерий Федоров: Уже нет. Съездите в Таиланд и узнаете, как это карается. Раньше это была смертная казнь, а сегодня это легализовано. И тому есть серьёзные причины. Но у нас до сих пор массовая установка «против» по отношению к так называемому легалайзу. Молодёжь относится иначе – там влиятельное мнение, что не надо ничего запрещать. Но молодёжи у нас мало, и не она определяет повестку дня.
А молодёжь вообще меняется? Принято проводить несколько градаций поколений, начиная от миллениалов до зумеров и далее, и постоянно обсуждается, что это разные люди. Например, у зумеров, как многие говорят и личный опыт подсказывает, стремление к здоровому образу жизни, к отсутствию вредных привычек – так кажется. Это одна из доминирующих идей, хотя вроде бы росли они в годы без пионерской организации.
Валерий Федоров: Да, конечно, молодёжь отличается и по горизонтали, и по вертикали. По вертикали – различия между разными поколениями. Кстати, почему сегодня этих различий больше, чем раньше? Потому что изменений стало гораздо больше, они спрессовались. Понятие «футурашок», страх от столкновения с будущим, появилось ещё в 60-х годах прошлого века, тогда уже темп изменений резко ускорился, а с тех пор он ещё ускорился. И тут прямая связь с молодёжью, потому что кто первым впитывает все изменения? Конечно же, молодой человек, который другой реальности не знал, который вырастает в этой самой новой реальности. И отсюда такие термины, как «цифровые аборигены», так уже называют поколение Альфа. Это означает, что они никакой другой реальности, кроме перенасыщенной цифровыми устройствами, не знают. Да, молодёжь разная, и чем выше будет темп изменений, тем короче будут поколения. Некоторое время назад поколение считалось около 30 лет, то есть родился ты, условно говоря, в 1890 или в 1920 году, но ты принадлежал к одному поколению более или менее. А сегодня считается, что одно поколение – это восемь-десять, максимум 12 лет. Это связано с тем самым темпом изменений, который здорово ускорился. Второй момент – это обратное влияние. Мы все знаем о конфликте отцов и детей, он присутствует всегда и везде, но мы гораздо меньше знаем о межпоколенной солидарности и о трансляции ценностей. Это есть и действует весьма эффективно. Кстати, зачастую в оба направления. ЗОЖ – это пример того, как ценность молодых постепенно распространилась вверх по возрастной лестнице. И мы некоторое время назад фиксировали отношение старших возрастов к ЗОЖ как к ерунде. А сегодня более старшие поколения приняли ценности здорового образа жизни, многие меняют своё поведение, отказываются от алкоголя, от курения или, по крайней мере, минимизируют их потребление.
Возвращаясь к отношению к административным мерам ограничений. Мы знаем целый ряд областей, где местные власти экспериментируют с этим.
Валерий Федоров: Вы про Вологодскую область.
Не только. Пример оказался заразительным, и в той или иной степени это тиражируется и в ряде других регионов. Или, по крайней мере, этот вопрос ставится в повестку: давайте часы сократим, количество мест сократим, и тогда люди будут пить меньше. Хотя, как мы видим, молодое поколение вообще идеологически готово пить меньше. На самом деле и старших учат этому.
Валерий Федоров: И средний возраст пьёт меньше, чем раньше.
Дети учат.
Валерий Федоров: Давайте не забывать и о других факторах. Не только дети учат, но и начальники требуют, полиция требует. Современный образ жизни не очень подходит для тех, кто привык каждый день прикладываться к рюмке.
Как это было в позднее советское время.
Валерий Федоров: Да, всё-таки тогда мы жили расслабленно, тогда у нас была тотальная занятость, конкуренции не было.
И с работы не увольняли.
Валерий Федоров: Многие откровенно просиживали штаны, получая за это деньги. А сегодня таких мест стало значительно меньше, поэтому не только пример позитивной молодёжи, но и само устройство жизни, сильно изменившееся в последнее время, ставшее гораздо более интенсивным, требует другого отношения.
Большинство поддерживает ограничительные меры или нет?
Валерий Федоров: Если речь об ограничении времени продажи алкоголя, то скорее да. Если речь о повышении возраста, с которого возможно покупать алкоголь, тут тоже есть некоторое большинство в пользу этого. Сохраняется мнение, что взрослый человек сам должен для себя решать, и мало кто хочет повторения антиалкогольной кампании. Правда, есть ещё две группы, для которых проблема алкоголизации стоит острее, чем для других. Первая – это женщины, они более чувствительны к этой теме, и среди них как раз поддержка антиалкогольной кампании существенно выше, чем среди мужчин. И второе – это сельская местность, там алкоголизация более распространена, и целые поселения, как в Якутии, коллективно принимают решение объявить свою землю свободной от алкоголя. Почему? Не под влиянием идеологии ЗОЖ или нового темпа жизни, а под влиянием понимания того, что это единственный способ избежать гибели, вырождения целого селения.
Как известно, северные народы традиционно гораздо более уязвимы.
Валерий Федоров: Генетически.
Экономические настроения и предпринимательство
Именно к алкоголизму как болезни, а не просто вредной привычке. Но это всё-таки небольшие центральные города. Пора поговорить о бизнесе, об экономике. Буквально год назад вы констатировали, что подавляющее большинство населения наблюдало улучшение своей жизни и демонстрировало больше оптимизма в отношении завтрашнего дня. Но этот год экономически идёт несколько иначе, доходит ли это до общественного сознания?
Валерий Федоров: Да. Не год, примерно девять месяцев, с середины 2024 года, как изменилась политика Центробанка и правительства. Напомню, началась борьба с инфляцией, подняли до очень высокого уровня ключевую ставку, перестали давать льготную ипотеку, вообще кредиты стало брать очень дорого.
Зато депозиты какие прекрасные.
Валерий Федоров: Да, депозиты растут, но если чуть внимательнее на них посмотреть, выяснится, что этот рост депозитов работает на пользу очень небольшой части нашего населения. Людям сложно жить, когда не могут себе позволить купить квартиру.
Вот это главное, да?
Валерий Федоров: Да. Квартира, машина стали запредельно дорогими. Образование подорожало, а это путь в хорошую жизнь для наших детей. Да вообще детей содержать, воспитывать, развивать стало очень дорого. И если раньше была возможность всё-таки перекредитоваться, то сегодня с этим всё сильно хуже. И оптимизм снижается, он не исчез, мы пока ещё не качнулись в противоположную сторону. Мы настроены более скептично, более осторожно и менее оптимистично, чем девять-десять месяцев назад.
Традиционно Аналитический центр ВЦИОМ проводил опросы о готовности, склонности людей заниматься собственным бизнесом. И эта цифра с очень маленьких значений в пределах 3-7% в начале нулевых плавно приближается к цифре 25%. И она выше, чем в среднем у подрастающего поколения. Стоит как-то интерпретировать эти цифры?
Валерий Федоров: Всегда стоит интерпретировать цифры. Мы фиксируем колебательные движения, потому что наблюдаем за этим ещё с конца 1980-х годов. Тогда был большой энтузиазм относительно своего бизнеса, все пытались туда двинуться, многие обломали зубы. Когда ситуация более или менее стабилизировалась, в экономике стало более или менее понятно, пошёл обратный процесс: к концу 1990-х – в начале нулевых доля тех, кто хотел свой бизнес, стала резко падать. Люди из челноков возвращались на свои прежние рабочие места, которые до этого покинули, потому что зарплата превратилась в практически фиктивную. Но всё-таки отношение к бизнесу не сильно ухудшилось, а дальше всё пошло ещё интереснее. Появилось новое поколение, которое социализировалось уже не в советское время, которое не было воспитано в духе того, что частный бизнес – это обязательная эксплуатация человека человеком, это несправедливо, это присвоение. Нет, они к бизнесу очень неплохо относились, и стало больше тех, кто готов сам себя попробовать. Вопрос, есть ли ниши. Когда появляются новые ниши, то это позитивное отношение переходит в желание и готовность попробовать, и многие пробуют. Когда эти ниши закрываются, а новых нет на горизонте, желание идти в бизнес резко падает. В качестве примера – блогинг, помните, это явление появилось в начале нулевых, туда пошли многие молодые люди. Абсолютное большинство не смогло построить на этом бизнес, но кто-то смог. Сейчас это уже не очень выглядит привлекательным, потому что сфера уже для кого-то себя дискредитировала, для кого-то установились правила, маржа резко снизилась, значит, ищем новые ниши. Ещё одна ниша – это криптовалюты. Сейчас ниша криптовалют тоже становится более зрелой. Как только появляются ниши, туда и устремляются молодые люди, которые хотят заняться бизнесом, но ищут лёгкий путь. А когда закрываются эти ниши, возникает пауза, и опять молодые люди хотят в «Газпром», на госслужбу, в армию или ещё куда-то.
Традиционная метрика – это самые престижные профессии и роды деятельности. Что сейчас?
Валерий Федоров: Да, здесь всё понятно. Есть врачи, которые держат пальму первенства на протяжении многих лет.
Причём вне зависимости от того материального достатка, который обеспечивает эту профессию.
Валерий Федоров: На самом деле материальный достаток там вполне нормальный, но у нас же две медицины существуют: государственная и частная. И кому не хватает вознаграждения в государственной, тот уходит в частную медицину и там зарабатывает достаточно. Что ещё? Программисты. Сейчас постепенно завершается хайп с программистами, но не окончательно. В качестве примера: в Высшей школе экономики самый большой – это факультет компьютерных наук.
И он котируется как один из лучших в этой области в стране.
Валерий Федоров: В Финансовом университете, где я работаю, тоже очень активно развиваются компьютерные науки, и это скорее общая картина. Но при этом экономисты говорят, что уже перебор, уже столько программистов, сколько выпущено, уже не нужно. Как-то уже экономика насытилась. Не тотально насытилась, но это насыщение постепенно приходит. Поэтому надо искать какие-то новые профессии, и такие профессии, конечно, обязательно появятся.
Технологический прогресс и футуршок
Давайте вернёмся ещё раз к теме футуршока. Говорят ли социологические метрики о том, как люди относятся к стремительному технологическому изменению, к искусственному интеллекту, к повальной цифровизации? Насколько людям это нравится?
Валерий Федоров: Здесь я бы применил такую модель: шаг вперёд – два шага назад. Когда что-то появляется, что обещает более интересную, яркую, зажиточную жизнь, люди это поддерживают. Потом, когда это становится реальностью, происходит уже расщепление. Кому-то это помогло, а кому-то, наоборот, стало больше мешать. Так и с цифровизацией.
А страх это не внушает?
Валерий Федоров: Страхи есть, более того, есть целые течения, политические силы, которые на этих страхах пытаются паразитировать. Это всегда так бывает. Я напомню, когда вводили ИНН 15 лет назад, возникало целое течение, которое говорило: не берите, люди православные, ИНН.
Чипируют.
Валерий Федоров: Да-да. И такое было, и будет дальше, безусловно. Но всё-таки, когда инновации входят в нашу жизнь прочно, большинство их принимает, учится с ними работать, взаимодействовать, относится к ним нормально, а меньшинство окукливается, уходит в раскол, игнорирует их всячески, и если не может их убрать из своей жизни, то само выпиливается из этой жизни: уезжает из больших городов, отказывается отдавать своих детей в государственные школы. И это тоже такое довольно распространённое явление.
Скорость этого прогресса никогда не была такой стремительной и никогда не врывалась в реальную жизнь таким темпом.
Валерий Федоров: Я бы поспорил. Были и другие эпохи стремительного прогресса. Сейчас многие и считают, что наш прогресс замедлился, и последние годы он идёт скорее формально, внешне. Посмотрите на знаменитый iPhone? Где там прогресс? Уже много лет он не прогрессирует.
Искусственный интеллект так или иначе стремительно сейчас будет менять ландшафт деятельности, профессии.
Валерий Федоров: ChatGPT нам открыл новую эпоху, да. Так что есть надежда и опасения, конечно же, они всегда сосуществуют.